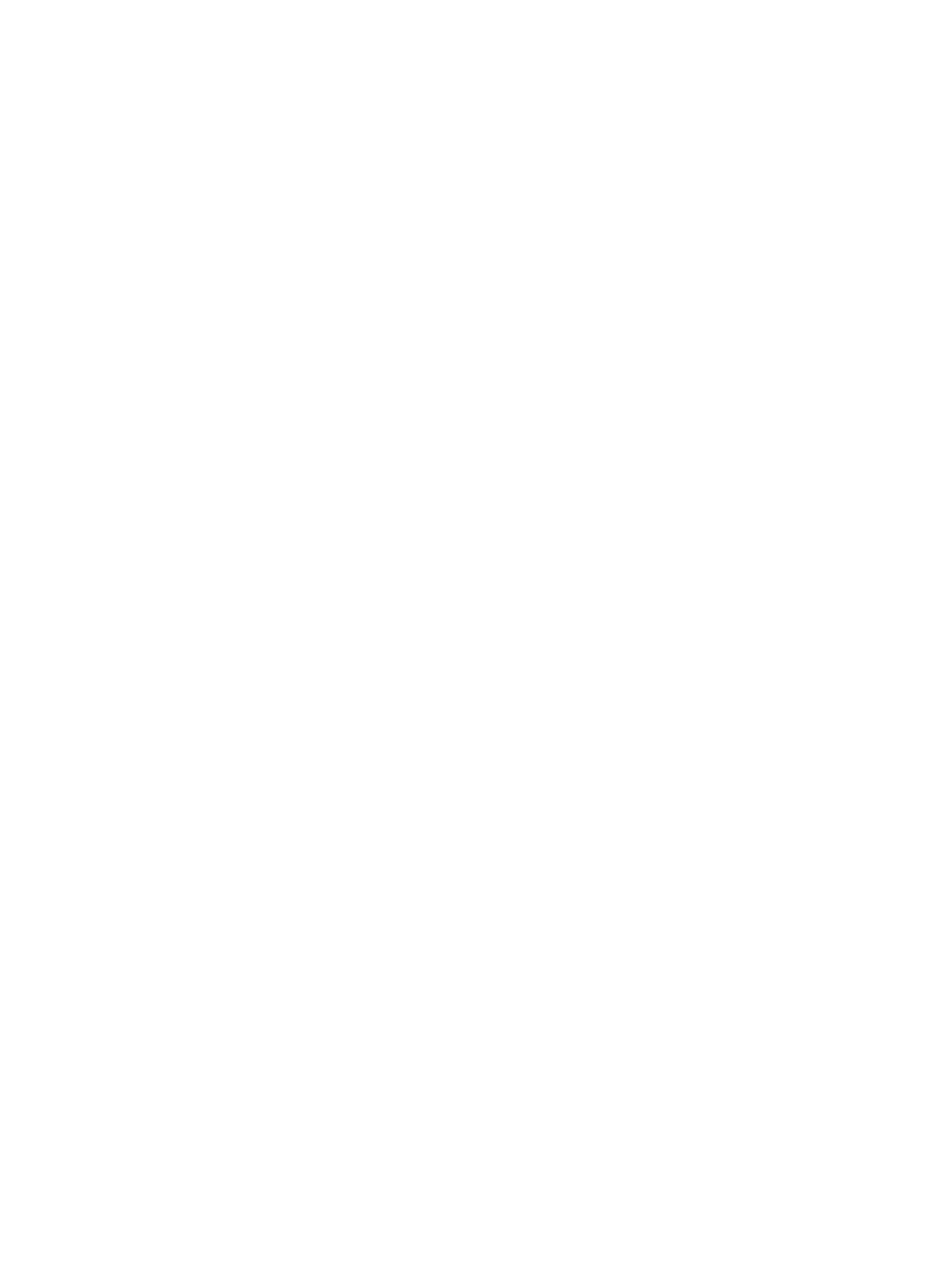ТЕРРИТОРИИ
24.04 – 25.05.2025
Русский пейзаж — не зеркало, а след. Он не отражает человека, но хранит его отпечаток. Часто — случайный, порой — болезненный. Это неуютная среда, где красота вырастает не из гармонии, а из напряжения между природой и культурой, между прошлым и настоящим. Это — территории памяти, утраты и не до конца прожитого.
Владимир Мигачёв приходит к пейзажу не сразу. Его путь начинается с абстракции — попытки разорвать связи, выйти в поле чистой формы. Но со временем возникает другое желание: почувствовать, где ты находишься здесь и сейчас, внутри конкретного пространства, в своей стране, на своей территории — и внутренней, и внешней.
Мигачёв исследует не пейзаж как жанр, а пейзаж как носитель истории. Его интересует не идиллия природы, а следы присутствия человека: руинированные заводы, заросшие парки, бетонные тотемы прошлого. Это территории покинутого, забытого, вытесненного — и одновременно узнаваемого на уровне интуиции. Подъезжая к городу, ты видишь уже не город, а его оболочку: гипермаркеты, заборы, шлагбаумы. Новые территории отчуждения, где исчезло ощущение среды, растворилось участие.
Россия в этих работах — это не просто ландшафт, это хроника. Страна как география энтропии. Но при этом — очень личная. Здесь нет ни пафоса, ни горечи, только попытка ухватить текучую форму настоящего. Территория, как напряжённая точка между пространством и временем, между образом и ощущением.
Экзистенциальная философия, к которой обращается художник, здесь не заимствование, а возвращение к своему. Она звучит, как внутренний голос, как память тела в ландшафте. Каждая работа — это рассказ, в котором зритель может найти не только чужую, но и свою территорию — переживания, узнавания, соучастия.
Мигачёв не собирает идеальный образ. Он собирает присутствие. Он создает территории, где возможно дыхание — пускай и, порой, на руинах.
Владимир Мигачёв приходит к пейзажу не сразу. Его путь начинается с абстракции — попытки разорвать связи, выйти в поле чистой формы. Но со временем возникает другое желание: почувствовать, где ты находишься здесь и сейчас, внутри конкретного пространства, в своей стране, на своей территории — и внутренней, и внешней.
Мигачёв исследует не пейзаж как жанр, а пейзаж как носитель истории. Его интересует не идиллия природы, а следы присутствия человека: руинированные заводы, заросшие парки, бетонные тотемы прошлого. Это территории покинутого, забытого, вытесненного — и одновременно узнаваемого на уровне интуиции. Подъезжая к городу, ты видишь уже не город, а его оболочку: гипермаркеты, заборы, шлагбаумы. Новые территории отчуждения, где исчезло ощущение среды, растворилось участие.
Россия в этих работах — это не просто ландшафт, это хроника. Страна как география энтропии. Но при этом — очень личная. Здесь нет ни пафоса, ни горечи, только попытка ухватить текучую форму настоящего. Территория, как напряжённая точка между пространством и временем, между образом и ощущением.
Экзистенциальная философия, к которой обращается художник, здесь не заимствование, а возвращение к своему. Она звучит, как внутренний голос, как память тела в ландшафте. Каждая работа — это рассказ, в котором зритель может найти не только чужую, но и свою территорию — переживания, узнавания, соучастия.
Мигачёв не собирает идеальный образ. Он собирает присутствие. Он создает территории, где возможно дыхание — пускай и, порой, на руинах.